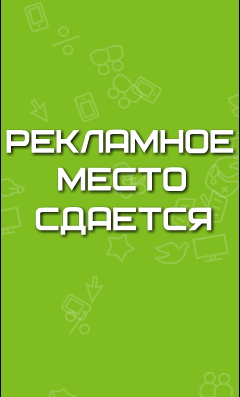Смертная болезнь
 Смертная
болезнь
Смертная
болезнь
Эсхатологические заметки
Даур
Начкебиа
Мы народ, больше ориентированный на смерть, чем на жизнь. У нас культ смерти, мертвых необычайно силен. Мы хороним своих покойников в собственных дворах или же в такой близи, чтобы могилы постоянно были перед глазами. Это о чем-то да говорит. (Речь идет о крайних и неприемлемых формах, которые приняло сегодня традиционное почитание нашим народом смерти и мертвых, о том пределе самоотрицания, до которого это почитание дошло. Поэтому апелляция к «заветам отцов» в данном случае, думаю я, несостоятельна.)
Ритуал проводов покойника, проработанный до мельчайших подробностей, предназначен служить в первую очередь живым. Это – действо для живых; и смерть больше повод, чем цель этого действа. В этом ритуале личное как бы отметено, всё подчинено внеличному, надличному.
Абхазы говорят: «А7ъыуашьа ззымдыруаз – ихы 8иэит» («Не умеющий плакать – разбил себе голову»). То есть – как и во всяком ритуале – тут необходимо умение, следование каким-то образцам. А неумеха разбил себе голову, потому что не знал этих образцов и внес в ритуал свое, личное, в данном случае – излишнее рвение. Это важно: именно рвение, перегиб, неуместная инициатива. Он мог поступить так, искренне выражая горе. Но и это не оправдывало его, иначе в поговорке проскользнули бы какие-то снисходительные нотки. Он нарушил обряд, где выставление горя напоказ недопустимо. Но и само горе тоже как бы не совсем оправданно: что толку убиваться по тому, что изменить невозможно. Потому бурному проявлению горя чаще или не верят – как лицемерию, или же относят на счет неумения и придурковатости. Умение – это не столько придирчивое соблюдение внешних формальностей, сколько внутренняя установка. Умение, если хотите, – это когда человек осознает высокий смысл смерти и свое бессилие перед ней. (Разумеется, не все, безукоризненно исполнявшие принятый ритуал, способны были духовно постигать смерть. Но строгий ритуал приобщал всех присутствовавших к чему-то значительному и высокому и своими жесткими рамками не дозволял никому опошлить смерть.)
Человек смиренно принимает смерть и не тщится проникнуть в ее тайну. Отсюда и соответственное поведение. Это поведение человека, давно знакомого со смертью, размышляющего о ней и знающего ей цену. Мы же, современные абхазы, ведем себя так, будто смерть близких и вообще смерть – досадная случайность, непостижимая ошибка, подвох, уготованный судьбой лично нам. Это отчасти и гордыня: мы считаем, что происшедшее с нами – нечто особенное, из ряда вон выходящее, «мы этого не заслужили». Мы годами носим траур по умершим, скорбим, зачастую выставляем свое горе напоказ, чуть ли не навязываем его окружающим (опять же – черное, бороды, фотографии, приколотые к груди...).Всё это говорит о том, как мы далеки от каких-либо зачатков религиозности. Когда внутреннее стало оскудевать, когда в нас «Бог умер», внешнее – наше поведение – постепенно изменилось, и в худшую сторону. Не умея принимать смерть с достоинством, мы театрализовали ее, превратили в зрелище не самой высокой пробы. Мы опошлили смерть. И всё это – якобы соблюдая традиции и из уважения к усопшему. Но на самом деле здесь скорее неуважение – и не только к покойному, но и к живым. Мы так бережем память об умерших, что зачастую забываем о живых. Нам нравится само зрелище смерти, и мы обставляем ее по возможности пышно, чтобы она выглядела привлекательней, чем есть на самом деле. Наши обильные возлияния на панихидах и похоронах, против которых пытаемся воевать, призывая к умеренности, стыдливости, приличию, – оборотная сторона той же медали, желание заглушить в себе слишком сильный голос смерти, своего рода противоядие.
Наш дух двоится: мы влечемся к смерти, всё, что связано с нею, мило нам, мы втайне ждем повсеместной гибели и разрушения, «конца света» (идефикс «маленького человека», равно «маленького народа», униженного, умаленного, гонимого), в то же время мы пытаемся вырваться из тенет смерти, понимая, что это путь в никуда. Типичное раздвоение, или, как говорят психологи, амбивалентность чувств.
В этом нет ничего необычного. Давно сказано о двух главных составляющих человеческой природы – инстинкте жизни (Эрос) и инстинкте смерти (Танатос). Некоторые мыслители, например французский философ Андре Лаланд, считают, что всё живое подспудно стремится к смерти. Как бы ни было, главное – что возьмет верх. В борьбе нашего духа со смертью, похоже, смерть пока побеждает.
Сдержанность, «равнодушие», которые проявляли раньше абхазы в отношении смерти, объясняется тем, что в миропонимании абхаза смерть сама по себе мало что значила. Вернее, так много значила, что он предпочитал «молчать». Он не вторгался в запретную область. А излишняя скорбь и вообще неумеренное горе были таким вторжением, своеобразной суетностью ума и сердца, когда вопрошают о том, что человеку не дано знать. Ведь скорбь – это прежде всего вопрошание: «Почему?», «Зачем?» (Но еще вопрос, вправду ли мы скорбим, не показуха ли всё это. Способны ли мы на скорбь, когда так измельчал наш дух в постижении жизни и смерти? Чаще, мне кажется, мы только изображаем скорбь – из каких-то мелких и постыдных соображений, из «выгоды». Наша «скорбь» есть скорее оскорбление смерти, чем глубокое духовное потрясение. В сравнении с мужеством и стоицизмом абхаза прошлых времен – насколько мы ниже!)
Смерть – неизбежный, оттого «не очень интересный» переход в мир иной, перемена мира, если перевести дословно абхазское выражение «идунеи и8сахит», которым обозначают смерть человека. При этом весь трагизм смертности человека абхаз ощущал глубоко, но смирялся с предустановлением всесильного Бога («Щаища зымчу»9, осознавая, что всё рожденное обречено на смерть: «Аира зшаз а8срагьы ишеит» («Создавший жизнь – создал и смерть»), «Мышкы ииуа мышкы ды8суеит» («Рожденный когда-то – умрет когда-то»). Важнее было то, как умирал человек, какую славу он нажил при жизни, что еще раз говорит об обращенности в прошлом абхаза к жизни, к слову и суду живых.
Но для нас сегодня не важно, как умер человек, мы с одинаковыми почестями провожаем в последний путь и достойного, и недостойного. Примеров нашего коллективного лицемерия много, приводить их просто стыд берет. Но тут не только в лицемерии, в предрассудках дело. Нам важен сам факт смерти, он перекрывает всё. Смерть выступает как отдельная самоценная сущность, вне связи с жизнью, с бытием.
Мудрое и мужественное отношение к смерти, вытекавшее из глубокой религиозности нашего народа, сегодня искажено до неузнаваемости. После недавней войны культ смерти и мертвых принял особенный размах. Во многом это наследие войны, но оно усилено нашим некрофильством вообще. Война наша отличалась от многих других войн тем, что мы сражались на малом пространстве и наши бойцы гибли не где-то за тридевять земель от родного дома, а рядом, в непосредственной близости, часто на глазах у родных. Смерть стояла у порога почти каждой семьи. Это до крайности драматизировало ситуацию и легло тяжким грузом на плечи народа. Можно без преувеличения сказать, что весь народ был вовлечен в войну и испытал на себе ее ужасы. Шок от этого до сих пор не изжит, он всё еще подтачивает нас изнутри. Мы не оправились от потерь, от страха и боли, мы всё еще в плену у смерти.
Страх исчезнуть как народ, который мы, видимо, и раньше испытывали и с которым умели как-то справляться, теперь же, когда мы воочию убедились в разрушительной мощи современного оружия (хотя на нашей войне применялось не самое мощное и не самое современное), при беспрецедентной лживости и безнравственности политиков, когда мировое сообщество исповедует двойную мораль, – страх этот засел в нас еще глубже. Когда пала империя, мы вдруг почувствовали себя голыми и незащищенными, мы оказались с миром лицом к лицу. Нет теперь уже «высшей инстанции», куда мы могли бы обращаться за справедливостью. Внутри жесткого и, как нам казалось, непробиваемого панциря империи нам мало что грозило, кроме тихого и неизбежного растворения в большем народе. А это процесс долгий и незаметный, он не мог до такой степени актуализировать извечный для малочисленных народов вопрос «быть или не быть», как это сделали распад империи и грянувшая следом война. Империя, обеспечив нам более или менее безопасное существование, в то же время притупила нашу настороженность к миру, наше всегдашнее состояние – бытьначеку. Потому война и ее последствия для нас так «неожиданны», неподъемны. Следствием всего этого является страх, что нам трудно будет выжить в этом мире, оставаясь собой. (Не быть собой – то же самое, что быть никем; а это значит – не быть вообще.)
Но всякий страх по своей природе разрушителен. Страх – это то, что не несет в себе ничего положительного. (Говорят, была еще одна заповедь – одиннадцатая: «Не бойся!», которая впоследствии почему-то выпала; люди предпочли забыть ее.) Тем более страх смерти. Постоянные мысли о ней приводят к тому, что смерть опутывает сознание и человека, и народа, подавив в них волю к жизни. (Наверно, наше «бытовое» отношение к смерти есть в чем-то и результат глобальных страхов нашего народа.)
Но вот кончилась война, впору заняться созидательным трудом. Вместо этого, будто разрушительный пыл не весь был израсходован в войну и теперь обратился против нас, мы еще долгое время продолжали воевать (да и сейчас воюем), но уже против самих себя. Притом, может быть, с большим ожесточением и ненавистью, чем против врага. Сколько было совершено убийств, сколько людей, а иногда и целые фамилии, стали заклятыми врагами, сколько погибло в автокатастрофах, сколько покончило с собой! Мы знаем случаи, когда родные убивают друг друга: отец – сына и сын – отца или мать, брат – брата или сестру, муж – жену или жена – мужа… Совершено столько злодеяний, что под вопросом нравственная состоятельность нашего народа. Если к этому страшному списку добавить пьянство и наркоманию, также разрушающие личность и также распространенные у нас, то картина перед нами предстанет жуткая, апокалиптическая. Такое ощущение, что мы все заражены бациллой смерти.
Ориентированность нашего духа на смерть выражается и в том, что мы постоянно заняты прошлым. Мы как бы живем с взглядом, обращенным вспять. Мы ищем в прошлом опору, ищем силу, чтобы справиться с настоящим и, может быть, с будущим. Прошлое для нас не нечто ушедшее, исчезнувшее, которое можно бы и забыть, а всегда присутствующее рядом, всегда актуальное. Мы – жертва истории в двояком смысле. Во-первых, она поставила нас на грань исчезновения через войны и насильственные переселения нашего народа в другие страны. Во-вторых, горькая, трагическая память об этом подтачивает нашу волю к жизни. Можно сказать, что прошлое для нас – непосильный груз. Мы не способны его победить, но и освободиться от него у нас тоже не получается. Мы всё еще как бы живем в прошлом. В этом прошлом мы действительно существуем. В настоящем мы вроде существуем – и вроде нас нет. Еще проблематичнее будущее, оно покрыто мраком. Иногда возникает такое ощущение, будто мы сами не очень-то верим, что в будущем можно будет отыскать нас. Наш переход из прошлого в настоящее, тем более в будущее, затянулся.
Война стала тем событием, которое еще крепче привязало нас к прошлому. Она обновила опасность, всегда висевшую над нами, наш дух оказался надломленным как никогда, и мы всё не можем распрямить плечи и встать во весь рост. Во всем нам видится угроза, недоброжелательность. И всё это направлено в самое сердце нашего существования как народа. Мы с опаской глядим на мир, ждем от него подвоха, предательства, пытаемся предвидеть и нейтрализовать многочисленные козни, которые он нам строит. Мы не доверяем миру, пространство вокруг нас враждебно нам. А чтобы выжить, нам надо избыть свой вечный страх перед миром. Я не призываю к полному забвению прошлого, к его «отмене». Но оно не должно занимать так много места в наших мыслях, иметь такую власть над нами. Из прошлого надо извлекать только уроки, это общепризнанная истина. А помнить постоянно ту боль и страдания, которые оно принесло нашему народу, – это ничего нам не даст, кроме опять боли и страдания.В нас уже нет той воли к жизни, которой отличались наши предки. Если мы как бы стихийно, инстинктивно выбираем смерть, что находит отражение в нашем умонастроении и поведении, то теперь мы должны осознанно выбрать жизнь. Мы должны повернуться лицом к жизни. А для этого надо победить в себе страх смерти. Бояться смерти – это то же, что бояться жизни. А мы боимся жизни, ибо не живем настоящим, а все заняты прошлым. Мы боимся исчезнуть как народ, потому не доверяем миру. Этому отчасти есть оправдание: мир нес – в чем мы имели возможность убедиться за свою долгую историю – и несет нам угрозу. Но и не став частью мира, а замкнувшись в себе, отгородившись, мы не выживем. А стать частью мира возможно только в том случае, если мы изживем в себе свои предрассудки, пересмотрим и обновим свои ценности, победим свои страхи.
Мне думается, развитие личности, личностного начала – единственный путь для раскрепощения нашего духа и усиления воли к жизни. Мы долго и оправданно отдавали приоритет надличному единству – народу. Это отчасти вело к затушевыванию, нивелированию личности, к ее несвободе. Победив в войне и защитив свой народ от гибели, мы в то же время демонстрируем, насколько нам безразличен отдельный человек, его судьба. Мы не ценим человека, но озабочены выживанием народа: когда под угрозой народ, об отдельном человеке вроде можно и забыть. Но это не так. Все призывы к единству путем ограничения свободы человека, подавления его личности на руку смерти, так грозно нависшей над всеми нами.
Жизнь – это свобода.
2001
(Журнал «Колокол», № 1, 2001 год.)
Источник: Смертная болезнь
Просмотров: 3367
Дата публикации: 23.08.2013 г.
Вернуться к списку новостей